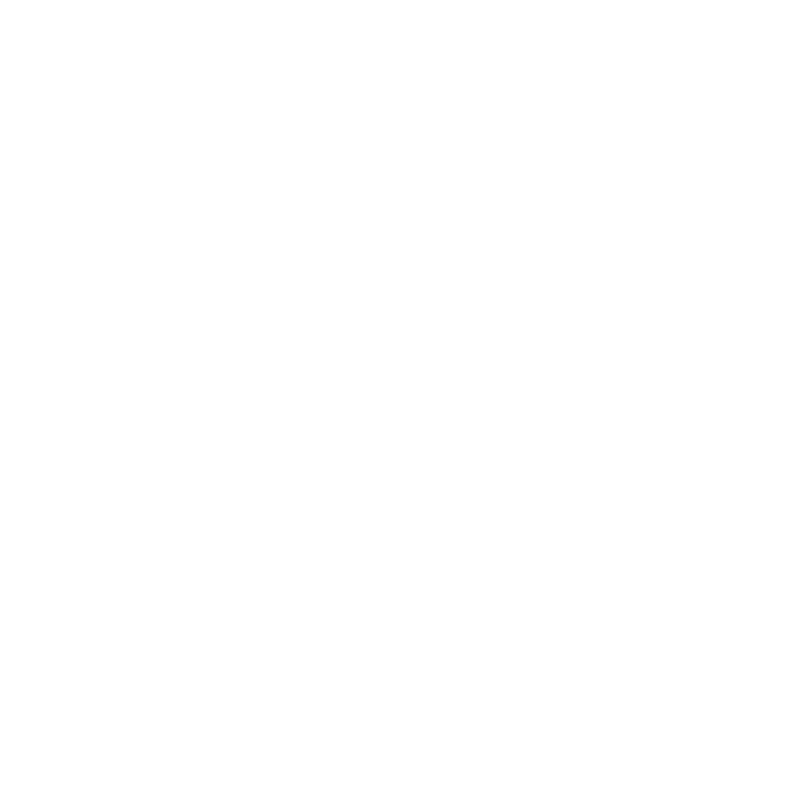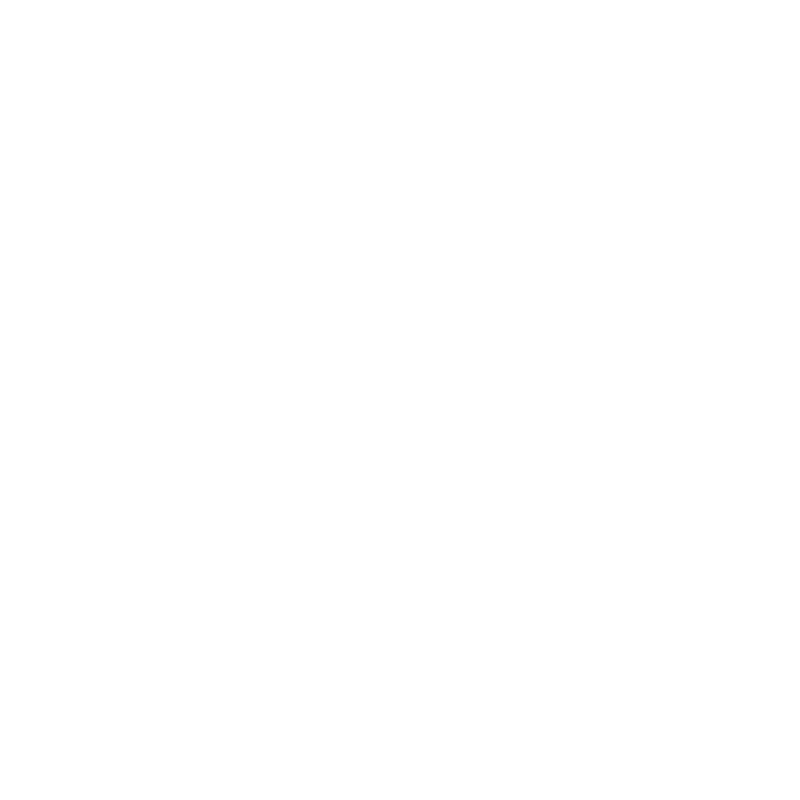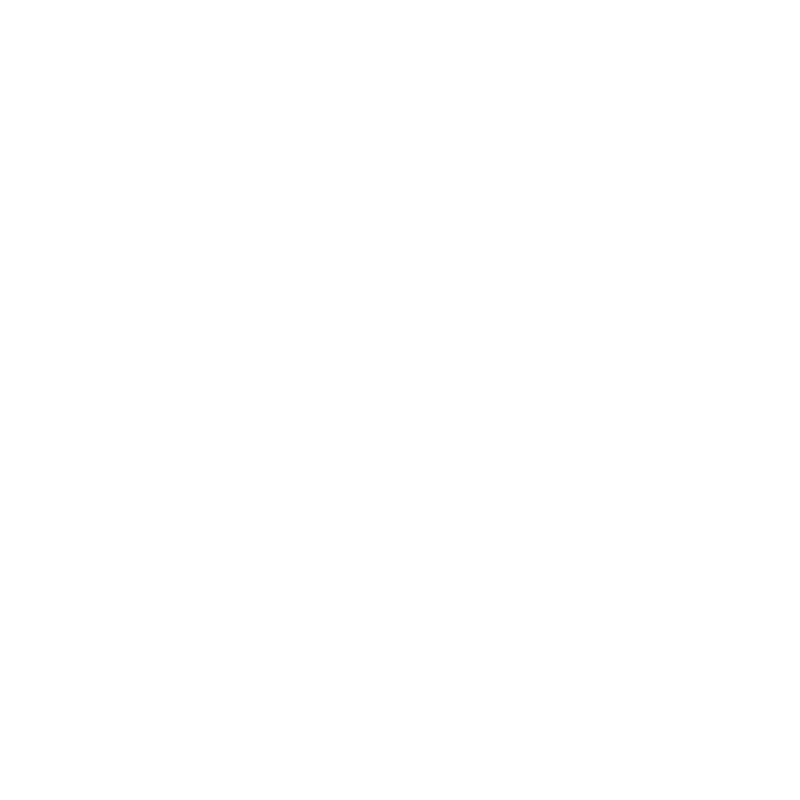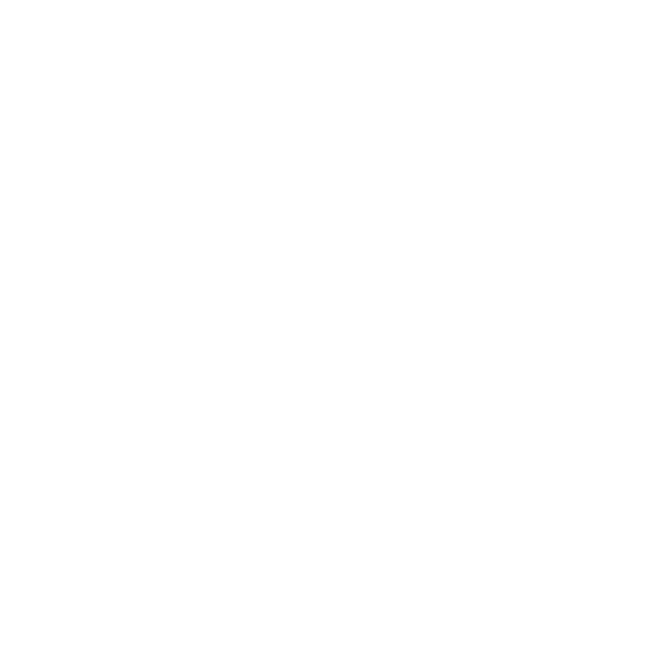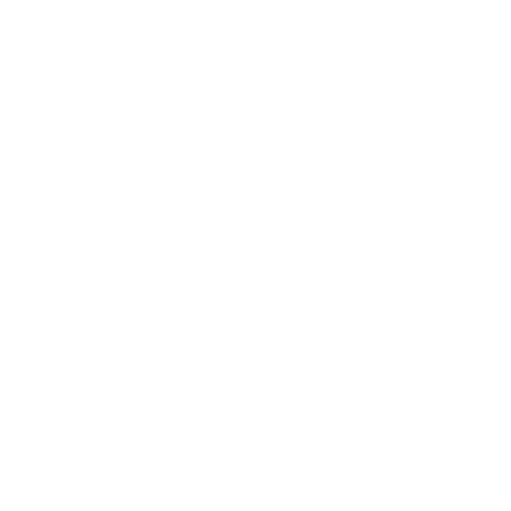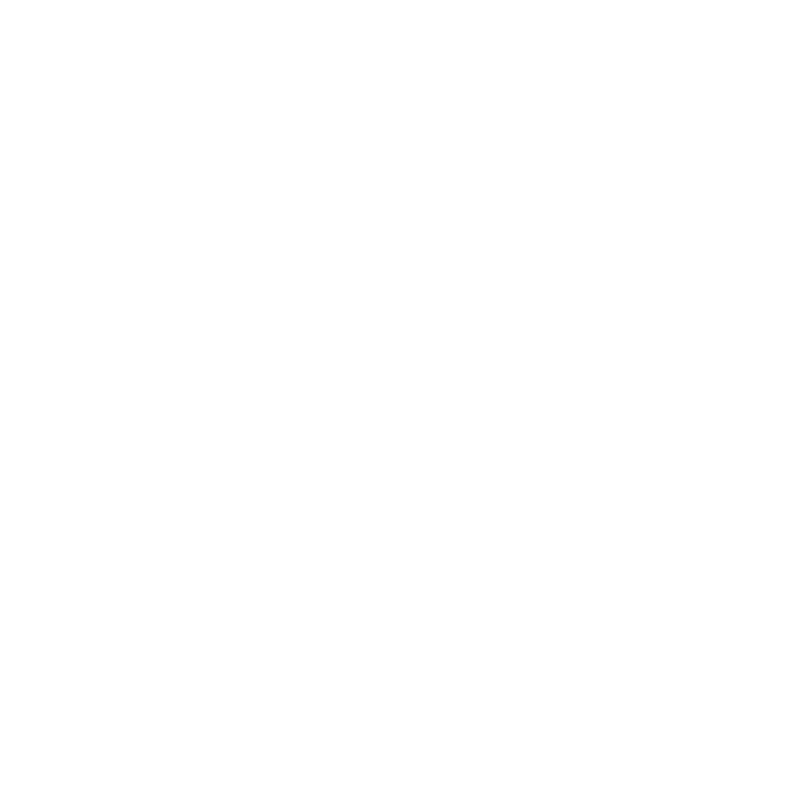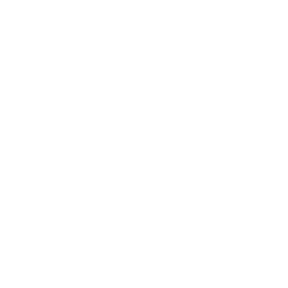Судьбы
О проекте
Кинокомпания «Гамма-фильм» при финансовой поддержке Минкультуры несколько лет занимается производством анимационного альманаха «Блокадные судьбы». Зритель увидит на экране 16 новелл. Сценарии к мультипликационным картинам написаны учеником Е. Габриловича и Г. Козинцева – сценаристом Вадимом Михайловым. Будучи ребенком, он пережил страшные блокадные дни в опустевшем холодном городе.
Героями мультфильмов становятся взрослые и дети. На анимационном полотне оживают скульптуры, дома, культурные памятники города. Сам Ленинград становится главным проводником между настоящим и прошлым.
Сюжеты анимационных фильмов разворачиваются в центральной исторической части города: на кадрах появляется Зимний дворец, Петропавловская крепость, мосты, пустынные набережные. Архитектура города, сохранившая след истории, является символом красоты и духовной силы, мощь которой сообщается и самим ленинградцам, – делает их способными выдержать мрачное блокадное время.
Героями мультфильмов становятся взрослые и дети. На анимационном полотне оживают скульптуры, дома, культурные памятники города. Сам Ленинград становится главным проводником между настоящим и прошлым.
Сюжеты анимационных фильмов разворачиваются в центральной исторической части города: на кадрах появляется Зимний дворец, Петропавловская крепость, мосты, пустынные набережные. Архитектура города, сохранившая след истории, является символом красоты и духовной силы, мощь которой сообщается и самим ленинградцам, – делает их способными выдержать мрачное блокадное время.
Каждый фильм – это не только новая история, но и уникальное изобразительное решение. Мультипликаторы используют детский рисунок, чёрно-белую графику, метод ротокопирования, технику коллажа и перекладки. Стилистически каждый приём максимально погружает зрителя в контекст рассказанной истории.
Каждый фильм – это не только новая история, но и уникальное изобразительное решение. Мультипликаторы используют детский рисунок, чёрно-белую графику, метод ротокопирования, технику коллажа и перекладки. Стилистически каждый приём максимально погружает зрителя в контекст рассказанной истории.
На экране возникает светлое лицо старика, сохранившего пасеку во время блокады: мёдом ленинградец лечил раненых в госпиталях. Здесь и история о трогательных взаимоотношениях девочки Маши и мальчика Серёжи, который в трудный момент без размышлений отдает подруге всё самое дорогое для него.
Во всех новеллах главный герой – ребёнок или подросток. Его глазами мы видим мир войны, голода и блокады. Это смелый и отважный герой. Лицо его измучено голодом, напряжённым чувством постоянной опасности, холодом морозной зимы. Но всё ещё на этом лице светятся умные, добрые, спокойные глаза человека с внутренней непоколебимой волей к жизни.
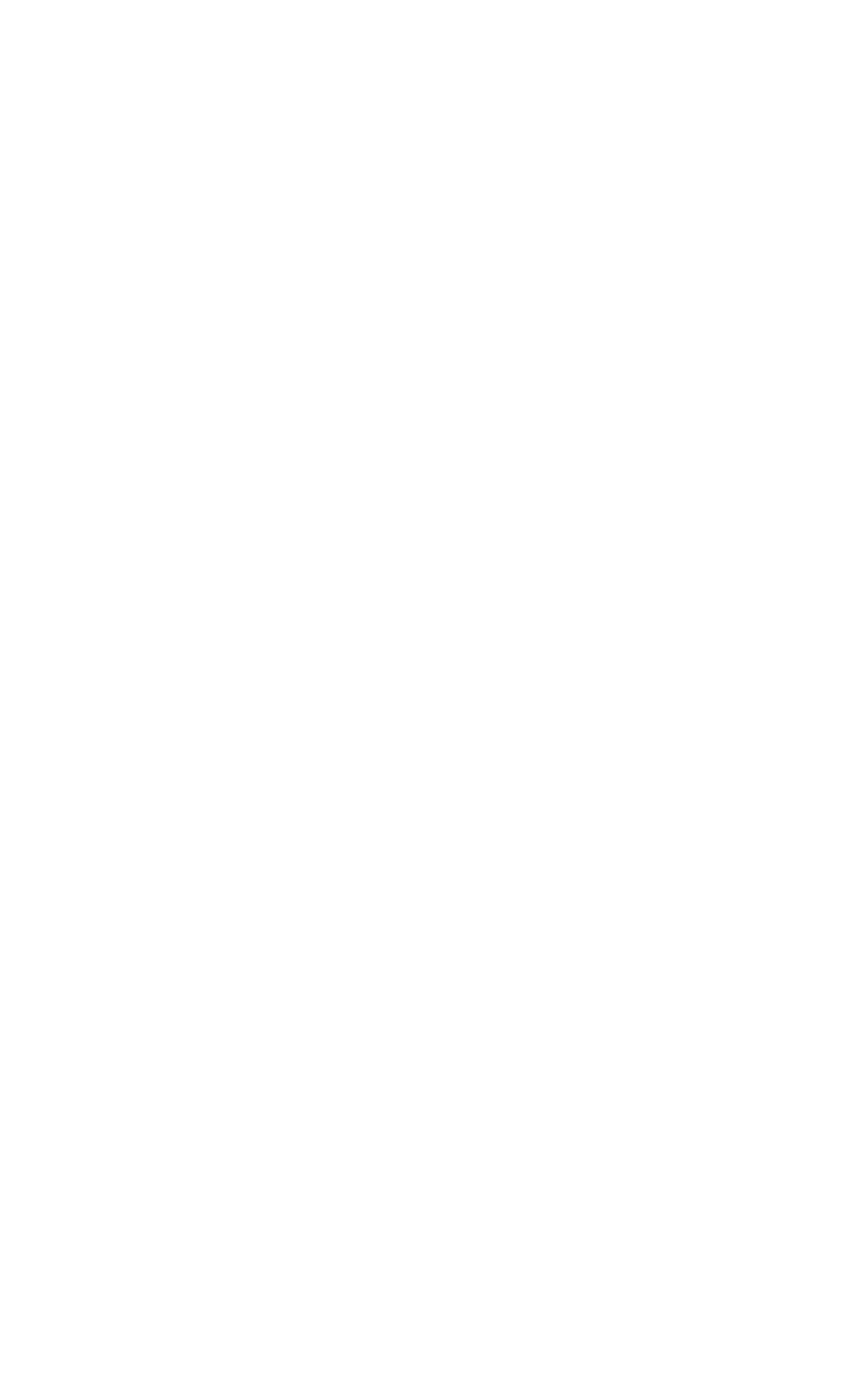
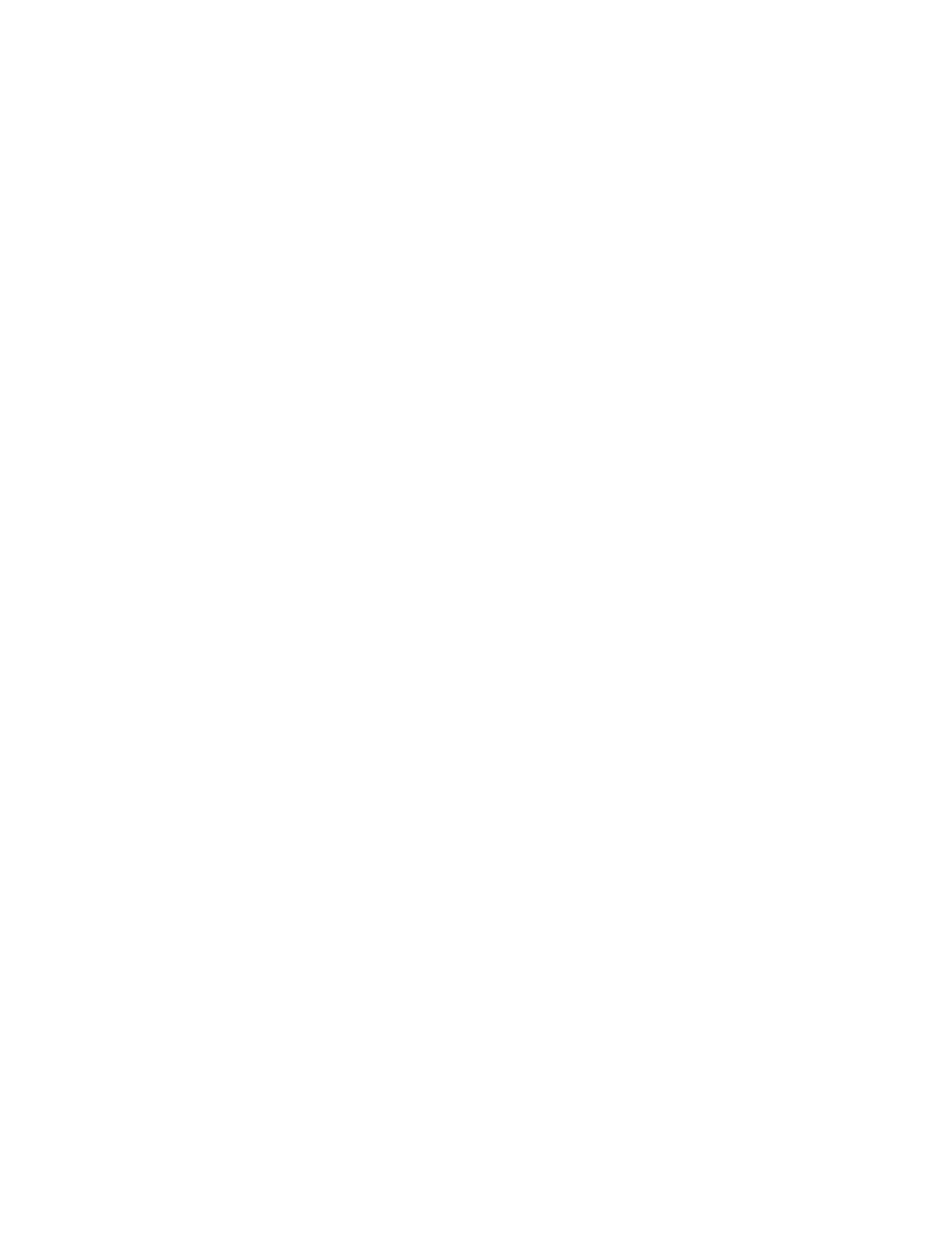
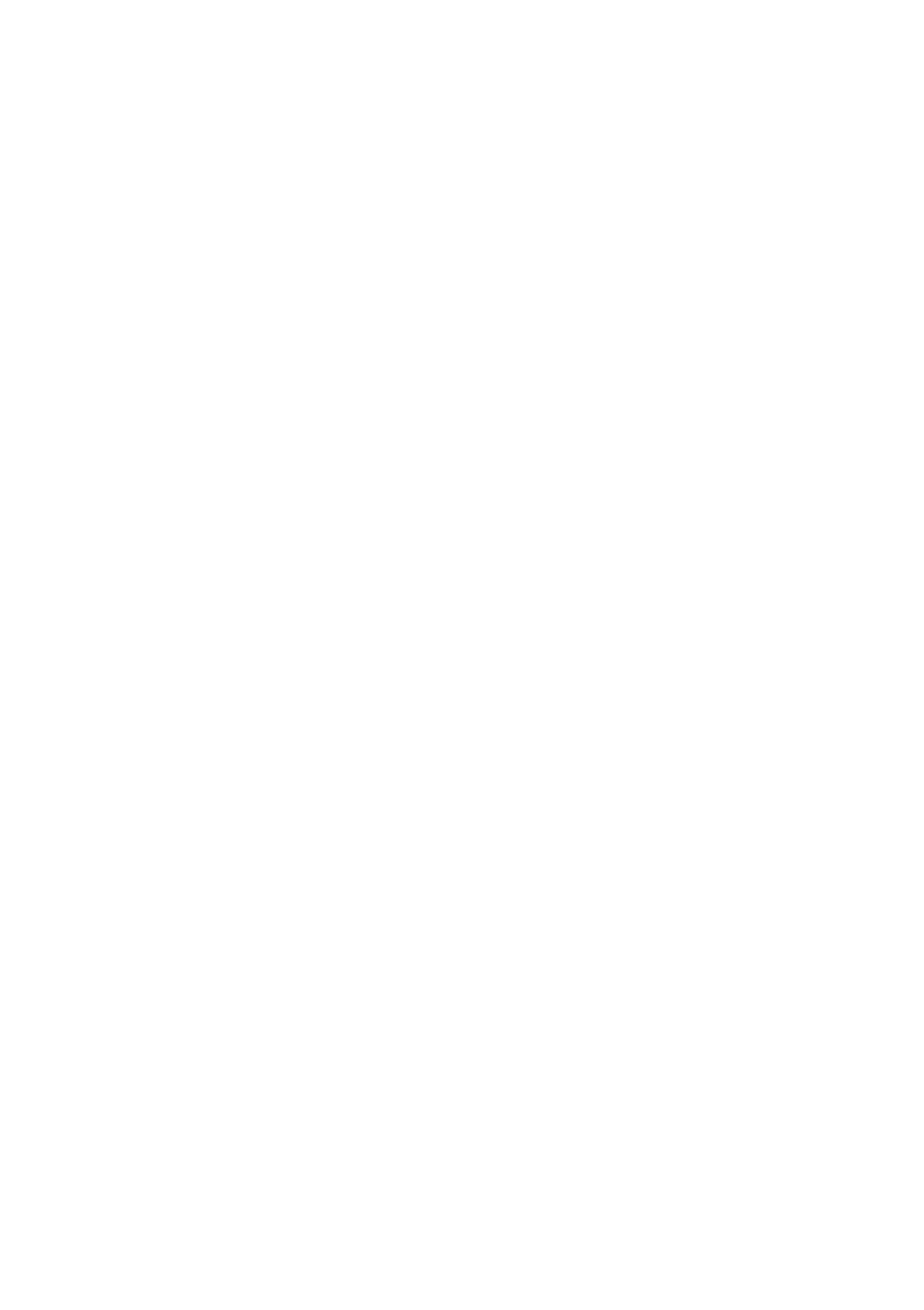
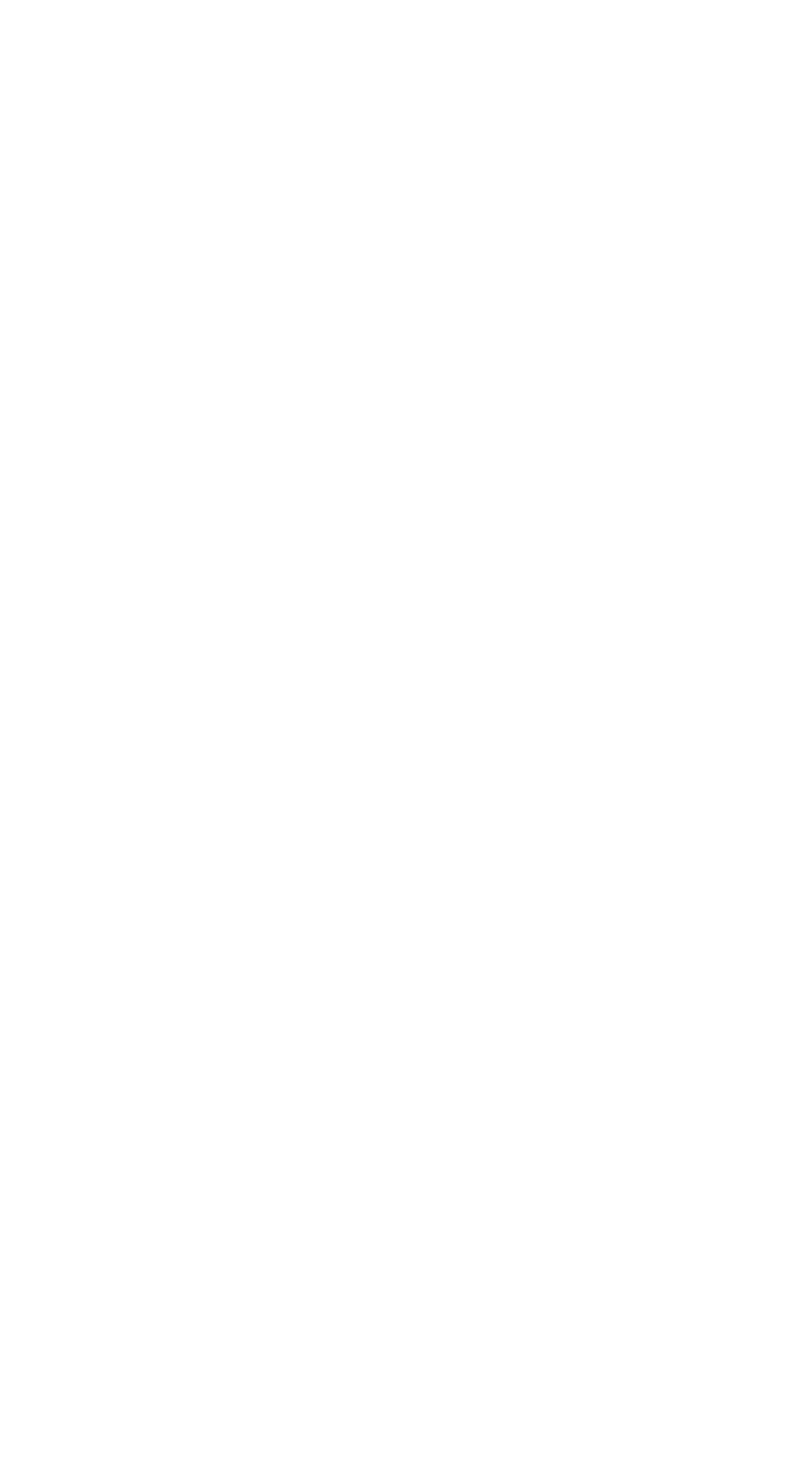
В 2024 году Беларусь отмечает 80 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Часть работ, включённых в конкурсную программу, представлена именно на эту тему – в память о Великой Отечественной войне. Среди этих картин и новелла Василия Васильева «Кума».
Картина рассказывает о жизни блокадного города. На улицах осаждённого Ленинграда Смерть всё чаще встречается с Жизнью, но побеждает её отнюдь не всегда.
На большом экране зрители смогли увидеть эту уникальную анимационную работу. Именно она стала победителем фестиваля в номинации «Лучший патриотический фильм».
Гран-при конкурса получила картина «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков», заявленная в категории «Короткометражные анимационные фильмы». Приз торжественно вручили режиссёру новеллы – Ирине Евтеевой Награду автор получила из рук члена жюри, артиста театра и кино Сергея Мурзина.
Жиронский кинофестиваль ежегодно проходит в Испании. Это 2-й старейший Каталонский международный фестиваль, который проводится с 1989 года.
Посетители фестиваля смогли увидеть уникальную новеллу россйиского режиссёра на большом экране. Мультфильм погружает зрителя в лиминальные пространства блокадного города, где между Смертью и человеческой Жизнью границы стираются – их встречи обыденны в заснеженном блокадном городе. Кого-то Смерть забирает, кого-то оставляет жить дальше. Новелла говорит о том, что Смерть может сопереживать, может смилостивиться над кем-то, может обидеться или разозлиться. Этой инфернальной силе оказываются свойственны все те чувства, которые испытывает сам человек.
По итогам фестиваля новелла Ирины Евтеевой «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» получила один из дипломов. История про двух подростков, познакомившихся на набережной Невы в блокадном Ленинграде, отмечена призом в номинации «История отечества».
Фильм Ирины Евтеевой – это уникальные анимационные решения: совмещение художественных техник, отрисовка кадров на замороженном стекле и использование элементов художественного игрового кино.
В рамках фестивального смотра прошёл премьерный показ анимационной новеллы Василия Васильева «Кума» – гости фестиваля увидели историю о старушке-Смерти, которая не только забирает души жителей осаждённого города, но и умеет сопереживать.
25 апреля в Москве прошла торжественная церемония вручения. Автор отметила, что это уже вторая её «Ника» и пятая номинация.
«Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» рассказывает историю про двух блокадных детей. Это уникальный мультфильм, кадры которого отрисованы авторами на замороженных стеклах. Персонажами фильма стали реальные актёры.
В центре картины – трогательная история знакомства: однажды мальчик Серёжа, пришедший к Неве за водой, встречает Машу на набережной. Для спасения своей новой знакомой герой будет готов отдать всё самое дорогое для него.
В 5-ю программу фестиваля вошла и новелла из альманаха «Блокадные судьбы». Фильм Ирины Евтеевой «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» получил специальный приз жюри – диплом «За сохранение Памяти».
Анимационная картина рассказывает о том, как даже в самые суровые дни холодной блокадной зимы жители города в преддверии Нового года сохраняли веру в светлое праздничное чудо.
Иногда о блокаде удавалось рассказать поэтам, но лишь тем, кто готов был отказаться в блокадных стихотворениях от поэтической речи: «Я дурак, я дерьмо, я калека, я убью за колбасу человека», – так начинается стихотворение Павла Зальцмана, а называется это стихотворение и вовсе «Ры-ры». Не слово, рычание. В прозе блокаду писать странно: проза требует сюжета, требует действия и характеров, но о каком развитии сюжета может идти речь, о каких характерах? Умерла мама, умерла бабушка, умерла Таня: вот и весь сюжет, вот и все характеры, вот и всё действие.
Быть может, поэтому попытки снять кино о Блокаде зачастую выглядят нескладно. Набирать талантливых детишек из театральных студий, гримировать их побелее и закутывать в тряпки – пусть произносят заученный текст про съеденную собачку – в такой попытке реконструировать прошлое есть что-то пугающе неправильное. Да и кто дал право нам, из мира живых, изображать их, из мира мёртвых?
Не от того ли, если и снимать о блокаде, то мультики? Анимация похожа на фильм даже меньше, чем стихотворение на прозу: у неё и материалы другие. Язык мультфильма поэтичен; выразительной анимацией можно передать даже непередаваемое словами.
Недавний проект короткометражных мультфильмов «Блокадные судьбы» важен хотя бы тем, что раздвигает границы блокадного языка. Теперь блокада может быть смертью, собирающей воздушные шарики, тенью мохнатого паука, сверкающей огнями ёлкой. Поэтический язык лучших мультфильмов серии превращает блокаду в миф – не миф в официозном смысле «мифа о стойкости и мужестве», но миф как символическую историю, через которую можно приблизиться к пониманию реальности. Из сегодняшнего дня всё равно невозможно понять блокадную реальность: мы можем лишь почувствовать отголоски страха, голода, одиночества.
У меня есть ощущение, что создавать медиумы о блокаде можно лишь в двух крайностях. Первая – последовательный пересказ архивных документов и чтение источников как таковых. Это очень страшно, и от такого можно поседеть – как поседел когда-то Сергей Яров, автор монографии «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда». В его работах анализируются дневники, письма и официальная документация. Только горе, никаких лишних слов.
Вторая – тот абстрактный язык, о котором я писала выше. Мои любимые мультфильмы серии – «Чужой хлеб» и «Кума» – говорят на нём. Это истории о смерти вообще, о голоде как таковом. С искривлённым пространством, то замедляющимся, то разгоняющимся временем и главной героиней, которая в случае «Кумы» просто девочка, а в случае «Чужого хлеба» и вовсе странное чёрно-белое существо, чем-то похожее на Безликого.
Может быть, это и есть самый точный язык для разговора о трагедии, свидетелем которой мы сами не были? Язык не событий, но ощущений от события, не реальности, а страшной сказки.
«Блокадные судьбы»: о документальной анимации и осмыслении травмы
Документальная анимация – не самое известное явление для российского зрителя. Пока в зарубежном пространстве «Вальс с Баширом» (Ари Фольман, 2008), «Исчезнувшее изображение» (Рити Панх, 2013) и «Побег» (Йонас Поэр Расмуссен, 2021) становятся победителями престижных премий, мы можем похвастаться талантами Андрея Хржановского и Романа Либерова. Последний даже получил две номинации на «ТЭФИ» за «ИЛЬФИПЕТРОВ» (2013), но, видимо, этого мало, чтобы жанр оказался на слуху. Что касается огласки в медиа, пять лет назад «Кинопоиск» выпустил статью со звучным названием «Гид по документальной анимации», приуроченную к премьере фильма «Знаешь, мама, где я был?» (Лео Габриадзе, 2018). Вот и всё. Зато на фестивалях нишевая доканимация пользуется спросом: в 2022 году на «Послании к человеку» была отдельная программа, посвящённая коротким метрам, а всё оставшееся время синефилы ищут редкие экспериментальные работы в локальных показах.
Часто предметом доканимации является то, что невозможно снять. Технические трудности, этические вопросы или травматичный нарратив – причины могут быть разные. Особенно здесь интересен случай с травмой: чтобы её прожить, нужно про неё снимать, но как – непонятно. Стоит двойственная задача: и сохранить зрительский комфорт, и не избегать прямой репрезентации события. Анимационный альманах «Блокадные судьбы» с этим справился: получилось аллегорично, немного сказочно, иногда даже по-доброму, без откровенных ужасов в кадре. Но после просмотра всё равно хочется помолчать.
«Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков» Ирины Евтеевой в первую очередь привлекает своей необычной техникой анимирования. На экран направлена проекция уже отснятого материала, а перед ним находится замороженное стекло, по которому рисуют пальцами, каждый пятый кадр вырезан – от этого изображение становится полупрозрачным и трудным в восприятии. Закадровый голос двух рассказчиков следует за действием, дублируя его: зритель сначала видит событие, а потом уже слышит о нём, что создает эффект достоверности, надёжности памяти, её незыблемости. В условиях суровой, зимней, одинокой реальности главные герои находят убежище в сказке про Щелкунчика: можно отнять что угодно, только не детство.
Яркие метафорические образы представлены в «Куме» Василия Васильева: инфернальная смерть, перерезающая нити жизни, души-воздушные шары в небе, обилие красного в кадре. Будь это документальное или игровое кино, зритель не смог бы его смотреть: слишком жестоко, слишком шокирующе. Анимация ощущение не смягчает – напротив, мало, где встретишь столько насилия.
«Чужой хлеб» Андрея Бахурина напоминает «Красную шапочку», но с трагическим концом Шарля Перро: интегрирование документальных кадров в финале – решение не только технически интересное, но и очень аффективное. А «Шпиль» Марии Дубровиной и «Сон о мирной ёлке» Александры Агринской можно назвать самыми подходящими для юного зрителя. Рефлексия над прошлым, эксперименты с формой или добрая детская сказка – в сборнике фильмов найдётся что-то для каждого.
Режиссёр Александра Агринская о новелле «Сон о мирной ёлке»
Никому не место на войне, в голоде и холоде, страхе и в слезах. Особенно не место там детям.
Именно поэтому история блокады Ленинграда, показанная глазами маленького ребёнка, может максимально донести до зрителя боль и лишения, которые пережили наши предки.
Фильм рассказывает о мальчике Проше. Он ищет съестное в квартире. А после объявления воздушной тревоги бежит с мамой в бомбоубежище, где видит сон о рождестве в мирное время.
История делится на три очень разных части. Первая часть происходит в квартире. Вторая часть — воздушная тревога. Третья часть — сон Проши.
Фильм сделан в технике перекладной анимации, который, на мой взгляд, помогает наиболее ярко воссоздать образ города того времени и приблизить зрителя к событиям.
Режиссёр Василий Васильев о новелле «Кума»
В реалиях блокадного города жизнь наполняется новыми бытовыми задачами: для выживания каждый день нужно совершать непривычные дела, искать новое применение старым вещам. Голод заставляет жителей придумывать иные способы добывать пропитание. Это тревожный мир, в котором всё неустойчиво, зыбко, неопределенно.
Цель фильма — с помощью метафорического языка волшебной сказки включить зрителя в диалог о вопросах честности и трудном моральном выборе, который приходится совершать человеку в условиях войны.
Метафорическая форма повествования возникает не только благодаря сюжету, но и за счет визуального ряда. Графические образы основаны на изобразительном языке Марка Шагала. Основные приёмы стилистического решения фильма — рваная динамичная линия, вспышки цветовых пятен, игра с перспективой и масштабом объектов и персонажей.
Как и в работах Шагала, волшебство и сказка проявляются здесь в контексте повседневной жизни, бытописания.
Обостренное ощущение границ между жизнью и смертью показывается в форме притчи. Это история о том, что тяжёлое время как лупа проявляет сильные и слабые черты человека, показывая его истинное лицо и глубинные ценности.
Режиссёр Владимир Ткач о новелле «Концерт»
События, происходящие в фильме, имеют реальные исторические корни и основаны на воспоминаниях участников тех лет.
Действующие лица — это собирательный образ. Он помогает в доступной форме рассказать подрастающему поколению о том, что блокадный город не только выживал, но и помогал фронту. Это создаёт многосторонний образ блокадного Ленинграда в представлении современной молодежи.
Сама лента рассказывает о выступлении артистов перед бойцами Ленинградского фронта. Действие начинается в блокадном городе, где артисты готовятся к выступлению. Специально для этого выбрано три образа наиболее часто востребованных профессий артистов на фронтах.
Многогранность военной и блокадной жизни, сжатые в один сюжет, позволяют молодому поколению увидеть разные стороны жизни и быта людей, как простых, так и военных. Заставляют задуматься, что подвиг и смелость были везде.
Режиссёр Владимир Ткач о новелле «Пчёлы и осы»
Цель фильма — в доступной, понятной современному молодому зрителю, форме поведать историю о подвиге простого ленинградца. На примере соотечественника из прошлого поколения показать образец настоящего патриота, гражданина и нравственного человека.
В наше время, современному молодому зрителю очень нужны примеры для подражания. Не придуманные западные супергерои из блокбастеров, а герои настоящие.
Люди, соотечественники, не силой мускулов, а силой духа, силой воли, силой добра и самопожертвования, победившие всемирное зло фашизма, грозившее уничтожить весь мир.
Анимационный фильм рассчитан на аудиторию 6 — 12 лет. Новелла создана в технике цветной двухмерной классической и перекладочной анимации. Манера рисунка заимствована у книжных иллюстраций Советской эпохи, 30х — 40х годов прошлого века.
Режиссёр Ирина Евтеева о новелле «Щелкунчик, пианино и венок из одуванчиков»
Фильм задумывался как синтез анимационного и игрового кинематографа. Поэтому особое внимание в нём уделено изобразительному ряду.
Эту историю спасения своего настоящего духовного мира — впечатлений, красоты и любви, — мне представляется интересным сделать на противопоставлении реальности быта блокадного Ленинграда и фантасмагории ирреального мира, в которые попадает героиня.
Жанр фильма —лирико-живописный балет-драма.
Как и в предыдущих своих картинах, я соединяю в покадровой съемке разнородные кино-видео и живописные изображения. Суть моего метода в том, что изображение проецируется покадрово на стекло, где отдельно обрабатывается буквально каждый смоделированный из заготовок кадр. Просто вручную, светом, цветом, линией или пятном.
Эта техника, при помощи которой были сняты все мои фильмы: «Лошадь, скрипка и немного нервно», «Эликсир», «Клоун», «Петербург», «Демон», «Тезей», «Фауст», «Маленькие трагедии», «Арвентур», — позволяет использовать широкий реестр изображений, от почти натурного игрового кадра до условного живописного видеоряда.
Картина в такой технике, по сути, снимается дважды: сначала снимаются и подготавливаются к анимационной обработке игровые эпизоды-заготовки и параллельно подбирается и монтируется кино-видеоматериал. Затем наступает основной съемочно-монтажный период, когда происходит анимационное «сведение» разнородных изображений на одну пленку.
Именно в этом процессе и создается окончательное изображение: редактируется светом, живописной или графической фактурой, получает тот или иной пластически-драматургический импульс.
25 лет я работаю по этой технологии, дающей возможность использования фотографической основы кино для съемки анимации, используя подготовительные заготовки актёрских сцен, фильмотечных кадров, всевозможных зафиксированных на кино-видео носителях состояний природы.
Режиссёр Мария Дубровина о новелле «Шпиль»
Блокадный город — место, где стирается разница между полами и возрастами: женщины кажутся старухами, дети выглядят, как взрослые. Дела и задачи, испокон веков делившиеся на мужские и женские, становятся общими. В блокадном городе нет сильного и слабого пола, а есть сильные и слабые люди.
Цель фильма — сохранение памяти о женщинах, ценой своей жизни спасавших блокадный Ленинград, проявивших неженский героизм, волю, бесстрашие матерей, спасающих от смерти дитя.
Мир нашего фильма — подчеркнуто красивые виды города с высоты птичьего полета.
На видовых панорамах ранами появляются следы бомбежек. Вместе с героинями мы хорошо их видим, потому что часто находимся на верхотуре.
Здесь, на время оказываясьвыше страха, голода, ужаса войны, на закате и рассвете, наши героини остаются один на один с этой исчезающей красотой, которую так важно сохранить. Они полны решимости до конца исполнить свою задачу. Решимости, в которой забывают о голоде, боли, страхе и самих себе.